Владимир Кагарлицкий
участник группы «Эрмитаж». Сфера основных интересов —
живопись, графика и поэзия. За 25 лет создал 23 аналитические копии эрмитажных шедевров Рейсдаля, Рубенса, Пуссена, Рембрандта, Эль Греко, Ван Дейка, Тициана, Веронезе. Аналитический подход к живописно-пластической организации формата развивал и в авторских композициях
Деревьев действо.
Куб, конус — выстрел сквозь века —
Адмиралтейство.
Там, где в твердыню неба вбит
Чуть розоват блик, —
На шаре облака забыт
Златой кораблик.
1980
Владимир Кагарлицкий родился в Ленинграде
19 июня 1939 года
Учился в школе № 210 на Невском проспекте, 14 (выпуск 1955/1956). Систематически заниматься живописью начал в 1959 году в изостудии Матросского клуба на площади Труда. В 1962 году окончил факультет геологоразведки Ленинградского Горного института, в 1968 году — Художественное (Таврическое) училище им. Серова.
В возрасте 29 лет (1968 год) Кагарлицкий стал учеником Г.Я. Длугача. За 25 лет эрмитажных исследований создал 23 аналитические копии шедевров Рейсдаля, Рубенса, Пуссена, Рембрандта, Эль Греко, Ван Дейка, Тициана, Веронезе. Аналитический подход к живописно-пластической организации формата развивал и в авторских композициях.
Мастерская Кагарлицкого на улице Желябова / Б. Конюшенной, 15 стала центром общения художников «эрмитажников» разных поколений и творческих людей близкого им круга. Здесь часто собирались поэт Илья Кирзнер, филологи Алексей Щеглов, Герман Филиппов, Владимир Альфонсов и искусствовед Александр Степанов, бывали кинорежиссер Алексей Герман и режиссер-документалист Юлий Дворкин.
Летней резиденцией «эрмитажного круга» стала деревня Максимково Любытинского района Новгородской области, расположенная на берегу реки Мсты. Для Кагарлицкого берега Мсты стали местом силы и вдохновения. На основе этюдов-исследований, созданных в Максимково, позже возникали программные композиции. В Максимково написаны и многие его стихотворения.
С начала 1970-х Владимир Кагарлицкий преподавал в изостудии Ленинградского Дворца пионеров (ныне Дворец творчества юных), с середины 1970-х — в ДХШ № 6. Обладая выдающимся педагогическим даром, воспитал многих интересных живописцев.
В 1992 году в составе группы «Эрмитаж» участвовал в выставочном турне по США. Умер в возрасте 54 лет 11 июля 1993 года по дороге в деревню Максимково. Похоронен на Преображенском еврейском кладбище Петербурга. К моменту скоропостижной смерти художника большинство его произведений вывезли в США для выставок и продаж, но в мастерской остались этюды пленэра лета 1992 — весны 1993, портреты и автопортреты последних лет, а на мольберте — незавершенный холст «Мастер с учениками» (1989–1993), посвященный памяти Длугача.
-
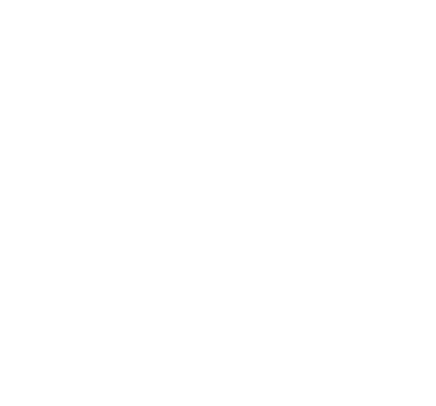 Из записей КагарлицкогоФормат (тот или иной) изначально, еще до прикосновения Мастера, но избранный Мастером, есть начало образа
Из записей КагарлицкогоФормат (тот или иной) изначально, еще до прикосновения Мастера, но избранный Мастером, есть начало образа -
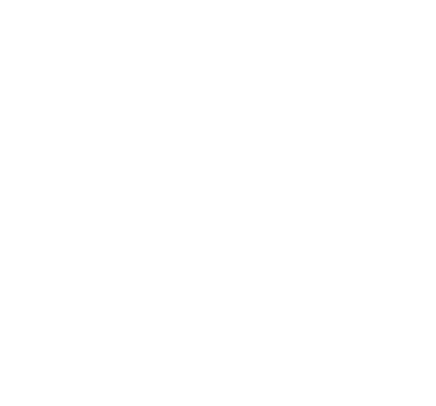 Из записей КагарлицкогоРабота над аналитической копией исключает так называемое «срисовывание». Только построение! Любую точку, любой штрих Мастера необходимо проанализировать с точки зрения композиционно-образных особенностей произведения
Из записей КагарлицкогоРабота над аналитической копией исключает так называемое «срисовывание». Только построение! Любую точку, любой штрих Мастера необходимо проанализировать с точки зрения композиционно-образных особенностей произведения -
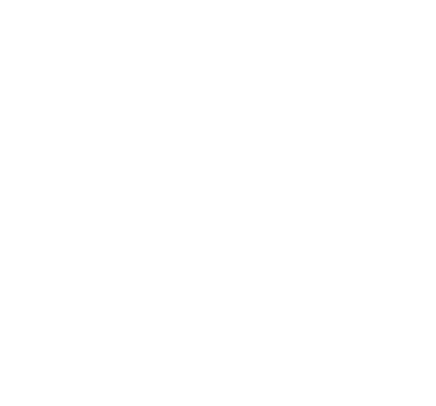 Из записей КагарлицкогоПространство (объём) внутри формата строится взаимопроникающими плоскими формами, которые превращают изобразительную плоскость в «камень», т. е. в идеально плоскую монолитную плиту
Из записей КагарлицкогоПространство (объём) внутри формата строится взаимопроникающими плоскими формами, которые превращают изобразительную плоскость в «камень», т. е. в идеально плоскую монолитную плиту -
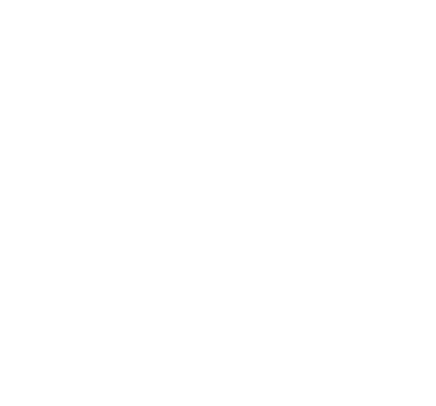 Из записей КагарлицкогоНевидимые линии, ритмически организующие формат и конструирующие в нем образ, обладают магическими свойством фиксировать
Из записей КагарлицкогоНевидимые линии, ритмически организующие формат и конструирующие в нем образ, обладают магическими свойством фиксировать
временную протяженность в изобразительном формате и собирать части в целое -
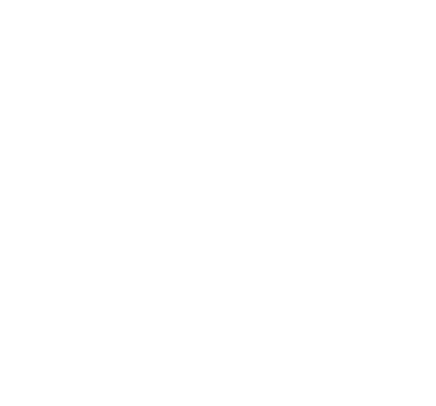 Из записей КагарлицкогоНепременным условием правды и глубины художественного образа является чувство высокого, долженствующее быть в душе автора. Это чувство непременно пробуждается длительным и напряженным проникновением в искусство прошлого
Из записей КагарлицкогоНепременным условием правды и глубины художественного образа является чувство высокого, долженствующее быть в душе автора. Это чувство непременно пробуждается длительным и напряженным проникновением в искусство прошлого -
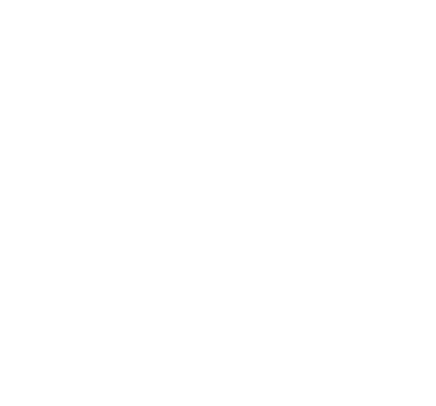 Из записей КагарлицкогоЭрмитаж научил меня понимать формат как Землю, где любое магматическое образование примет только те очертания и формы, которые позволят ему принять внутриземные давления. Я пытаюсь осуществить это понимание в своих работах
Из записей КагарлицкогоЭрмитаж научил меня понимать формат как Землю, где любое магматическое образование примет только те очертания и формы, которые позволят ему принять внутриземные давления. Я пытаюсь осуществить это понимание в своих работах
П. П. Рубенса «Апофеоз Генриха IV».
Холст, масло; 50*66 см
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
Н. Пуссена «Отдых на пути в Египет».
Бумага, графитный карандаш; 44*61 см
г. Пушкин, ГМ «Царскосельская коллекция»
П. П. Рубенса «Охота на львов».
Холст, масло; 50*70 см
Санкт-Петербург, частное собрание
П. П. Рубенса «Коронация королевы».
Бумага, картон, оргалит, графитный и цветной карандаш; 40*55 см
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
В течение десятилетия, с конца 1970-х до конца 1980-х, работал над серией аналитических копий эрмитажного шедевра Рембрандта «Давид и Урия»
В рембрандтовскую серию аналитических исследований Кагарлицкого входят как наброски, кратко сформулировавшие пластическую суть оригинала, так и графические листы длительной работы. Менялась техника исполнения: графитный карандаш, цветные карандаши, сангина, акварель, разные комбинации смешанной техники.
Полотно, из-за цветового решения получившее название «Синий Урия», занимает совершенно особое место в творческом наследии Кагарлицкого: с одной стороны, является итогом аналитического «рембрандтовского цикла», с другой стороны, по значимости относится к программным произведениям.
Для «Синего Урии» Кагарлицкий выбирает более вытянутый холст, чем в оригинале Рембрандта. Вертикальная доминанта усиливает ощущение невидимой зрителю лестницы за пределами формата, по которой Урия медленно спускается навстречу судьбе. По цвету картина решена монохромно — в синих тонах, с промельками благородной умбры. Художник пишет по грунтованному холсту акварелью с вкраплениями темперных белил. Большие куски грунта либо просвечивают под акварельной лессировкой, либо работают как самостоятельный цвет, создавая светящуюся глубину под шквалом линейных построений, неистово-синих, словно весенняя роща, стремительных и точных, словно удары рапирой.
Художник эрмитажной школы Юрий Гусев об этой серии в творчестве друга: «Дух Рембрандта Володя считал высочайшей из вершин, которую надобно бы постигать постоянно, как Мир, Природу, Космос. Вся Библия вложена в Рембрандта, так же как вся она вложена в любую из глав, составляющих ее. Все начала и концы в любой части — это глобальное, космическое состояние».
- 1978Аналитическая копия с картины Рембрандта «Давид и Урия». Бумага, графитный карандаш; 64*55 см; ГМ «Царскосельская коллекция», г. Пушкин
- 1980-еАналитическая копия с картины Рембрандта «Давид и Урия». Бумага, смешанная техника; 70*45 см; США, частное собрание
- 1989Аналитическая копия с картины Рембрандта «Давид и Урия». Бумага, сангина, карандаш. 63*55 см; США, частное собрание
-
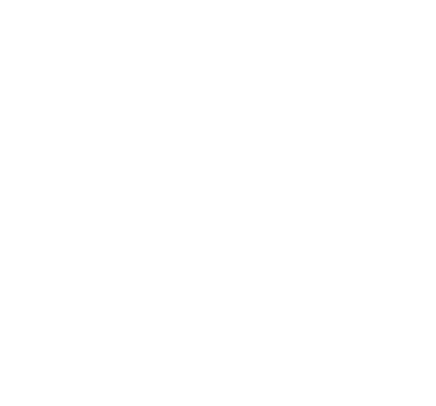 Из записей КагарлицкогоПочему именно я и именно сейчас взялся об этом размышлять и писать? Дело ведь не в том, что из ученических побуждений я стал копировать два года назад «Давида и Урию». Не приходило же мне на ум попытаться что-то записать, когда я работал с Пуссеном, Рейсдалем, Рубенсом? Меня вполне удовлетворяло, что знания, которые я, копируя, приобретал, накапливались у меня в руке и в глазу. По-видимому, все дело в Рембрандте, в его картине, которую, как ни странно, я стал видеть как рассказ о самом себе, т. е. отождествил себя со всеми ее персонажами сразу.
Из записей КагарлицкогоПочему именно я и именно сейчас взялся об этом размышлять и писать? Дело ведь не в том, что из ученических побуждений я стал копировать два года назад «Давида и Урию». Не приходило же мне на ум попытаться что-то записать, когда я работал с Пуссеном, Рейсдалем, Рубенсом? Меня вполне удовлетворяло, что знания, которые я, копируя, приобретал, накапливались у меня в руке и в глазу. По-видимому, все дело в Рембрандте, в его картине, которую, как ни странно, я стал видеть как рассказ о самом себе, т. е. отождествил себя со всеми ее персонажами сразу. -
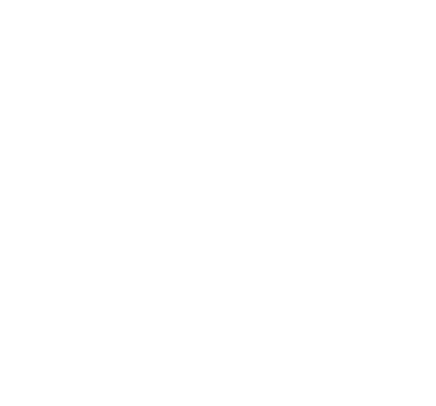 Из записей КагарлицкогоЗачем Богу было нужно, чтобы род Давидов оказался отягчен кровью невинного раба его? Кирзнер неточен, говоря об «осклабленности» рембрандтовского Урии. Но и безмятежности жертвенного барашка в нем нет. Урия Рембрандта, в отличие от библейского, точно знает, что он приговорен. Это обстоятельство и дало повод признать Урию Аманом. Но это было бы допустимо лишь в том случае, будь Урия действительно «осклаблен». Как точнее назвать психологическое движение в лице Урии на картине Рембрандта?
Из записей КагарлицкогоЗачем Богу было нужно, чтобы род Давидов оказался отягчен кровью невинного раба его? Кирзнер неточен, говоря об «осклабленности» рембрандтовского Урии. Но и безмятежности жертвенного барашка в нем нет. Урия Рембрандта, в отличие от библейского, точно знает, что он приговорен. Это обстоятельство и дало повод признать Урию Аманом. Но это было бы допустимо лишь в том случае, будь Урия действительно «осклаблен». Как точнее назвать психологическое движение в лице Урии на картине Рембрандта? -
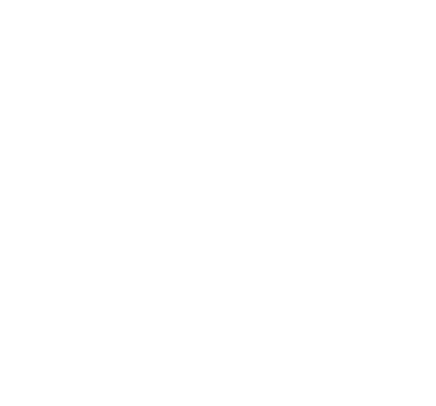 Из записей КагарлицкогоЯ вижу светлый профиль, основная характеристика которого — медленно опускаться. Но ему противостоит непреклонность правой (фасовой) части. Профиль намертво скреплен темным фасом, таинственно влекомым вверх. Светлый профиль — это смертное в Урии. Это то, что парализовано страхом за жизнь и уже умерло, за исключением нелепо выпяченных и еще трепещущих губ, которые как бы пытаются вытянуть со дна очень длинного и узкого сосуда несколько последних капель. Темный фас пока представляется мне труднейшим композиционным узлом. Он таинственным образом вздымается вверх, куда-то под головной убор, стремясь к верхнему краю картины. Именно это движение вверх сообщает образу Урии величие, но величие как свойство, не зависящее от самого персонажа.
Из записей КагарлицкогоЯ вижу светлый профиль, основная характеристика которого — медленно опускаться. Но ему противостоит непреклонность правой (фасовой) части. Профиль намертво скреплен темным фасом, таинственно влекомым вверх. Светлый профиль — это смертное в Урии. Это то, что парализовано страхом за жизнь и уже умерло, за исключением нелепо выпяченных и еще трепещущих губ, которые как бы пытаются вытянуть со дна очень длинного и узкого сосуда несколько последних капель. Темный фас пока представляется мне труднейшим композиционным узлом. Он таинственным образом вздымается вверх, куда-то под головной убор, стремясь к верхнему краю картины. Именно это движение вверх сообщает образу Урии величие, но величие как свойство, не зависящее от самого персонажа. -
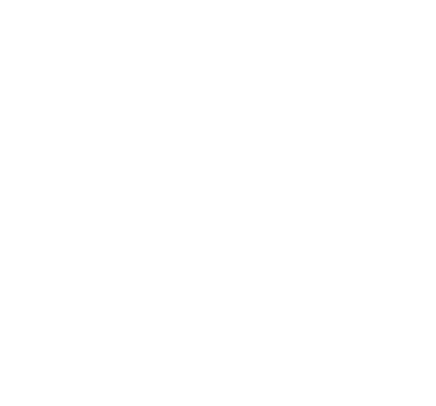 Из записей КагарлицкогоВ человеческой жизни есть несколько роковых точек во времени, которые определяют ход всей последующей жизни. Так и в картине есть несколько неизбежных точек, определяющих образный строй всей картины. Одну из таких существеннейших точек я вижу на лбу Урии, чуть левее того места, где индийские женщины ставят себе красную отметинку. Другая точка становится заметной в светлые позднезимние дни, когда лучи солнца рикошетят от снега в эрмитажный сумрак, изумляя открывающейся новизной усталые от электричества глаза. Эта точка лежит в области темного фаса в правом углу рта, ее трудно увидеть, она чуть брезжит. Она — это нависшее каплей, еще не выговоренное слово, которое вот-вот упадет.
Из записей КагарлицкогоВ человеческой жизни есть несколько роковых точек во времени, которые определяют ход всей последующей жизни. Так и в картине есть несколько неизбежных точек, определяющих образный строй всей картины. Одну из таких существеннейших точек я вижу на лбу Урии, чуть левее того места, где индийские женщины ставят себе красную отметинку. Другая точка становится заметной в светлые позднезимние дни, когда лучи солнца рикошетят от снега в эрмитажный сумрак, изумляя открывающейся новизной усталые от электричества глаза. Эта точка лежит в области темного фаса в правом углу рта, ее трудно увидеть, она чуть брезжит. Она — это нависшее каплей, еще не выговоренное слово, которое вот-вот упадет.
- сер. 1980-хВ. Кагарлицкий в своей мастерской; на фоне холст «Синий Урия» на ранней стадии работы. Фотография Владимира Штейнварга
- 1986Авторская рукопись стихотворения Кагарлицкого «Давид и Урия» (лист-1); Санкт-Петербург, частное собрание
- 1986Авторская рукопись стихотворения Кагарлицкого «Давид и Урия» (лист-2); Санкт-Петербург, частное собрание
- 1988В. Кагарлицкий. Набросок головы Урии. Бумага, соус; 18*15 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1988–1989В. Кагарлицкий. Аналитическая копия с картины Рембрандта «Давид и Урия». Бумага, смешанная техника; 65*56 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1980–1989В. Кагарлицкий. «Синий Урия». Холст, акварель, темперные белила; 110*76 см; Санкт-Петербург, частное собрание
Давид и Урия (по Рембрандту)
Мой Урия, ты отпуск заслужил,
Ступай домой, да обними супругу.
Слыхал, она цветет на всю округу,
Как бишь ее? Старею, брат, забыл.
Ах да! Вирсавия. Нисана дочь. Весна.
Рощ росных крутобокое светило.
Тебя что, братец, к месту пригвоздило?
Зачем ты здесь, когда она одна?
В прозрачном имени твоем
Струй многоцветных слышу пенье.
Вирсавия — прекрасное мгновенье!
А дальше — смерти мутный водоем…
Бывало я плясал и пел,
Когда встречал Ковчег Завета.
Слова из солнечного света
Тогда я извлекать умел
Так запросто и ненароком,
Как мы насущное берем.
В последний раз
Дано мне быть пророком,
Зато пребуду в вечности царем!
Грядущий вижу день:
Столь тесен он двоим нам,
Что ты в нем неуместен, знай!
Ступай в прошедшее,
Где все темно и дымно.
Вот письмецо. Ступай, молчун, ступай!
1988
Этот адрес хорошо известен художникам «эрмитажникам» разных поколений. Здесь, в полуподвале со сводчатыми потолками располагалась мастерская Владимира Кагарлицкого
Библиотека закрыта с начала 1970-х, дверь в главное помещение заколочена досками. Направо от входа — тесный коридорчик с разбитым дощатым полом: мимо ржавой раковины и выгородки туалета — сначала в темный чулан, где стеллажи с холстами, а затем в основное помещение со сводчатым потолком и двумя арочными окнами. Сквозь железные решетки окон почти на уровне глаз — маленький внутренний двор, мощеный темным булыжником. Потрескавшиеся корни огромного дерева закрывают основную часть булыжной кладки. Дневной свет почти не попадает в помещение мастерской, холст на рабочем мольберте обычно освещен электрической лампой на длинном витом проводе, но иногда, летними питерскими вечерами, солнце все-таки заполняет мощеный дворик и проникает под своды. Каменные арки потолка кажутся тогда легкими и подвижными, как паруса.
В мастерской Кагарлицкого собирались филологи Алексей Щеглов, Герман Филиппов, Владимир Альфонсов, искусствовед Александр Степанов. Бывали кинорежиссер Алексей Герман и режиссер-документалист Юлий Дворкин. После занятий у Старика заходили художники эрмитажной школы: Александр Зайцев, Вадим Филимонов, Вадим и Полина Кочубеевы, Геннадий Матюхин и товарищи Кагарлицкого по группе «Эрмитаж»: Альберт Бакун, Борис Головачев, Юрий Гусев, Марк Тумин, Сергей Даниэль, Александр Даниэль, Владимир Обатнин.
С начала до середины 1970-х Кагарлицкий преподавал в изостудии Ленинградского Дворца пионеров (ныне Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных), с середины 1970-х — в городской художественной школе № 6. Многие выпускники ДХШ, уже в период своего студенчества в разных художественных заведениях Петербурга, продолжали занятия под руководством Кагарлицкого и были частыми гостями в мастерской.
-
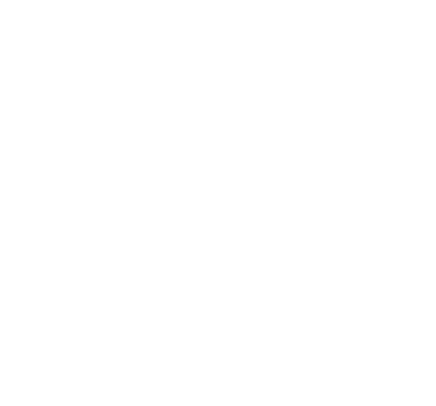 Цитата на стене мастерской: Дэниэл Уилсон (археолог)«Видимые вещи — преходящи. Невидимые, возможно, сделаны из того же материала, что и Вечность»
Цитата на стене мастерской: Дэниэл Уилсон (археолог)«Видимые вещи — преходящи. Невидимые, возможно, сделаны из того же материала, что и Вечность» -
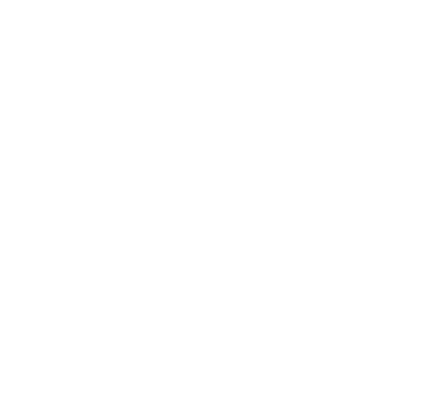 Цитата на стене мастерской: Борис Головачев«Если это не литература, то и не живопись»; «Справедливое лучше хорошего»
Цитата на стене мастерской: Борис Головачев«Если это не литература, то и не живопись»; «Справедливое лучше хорошего» -
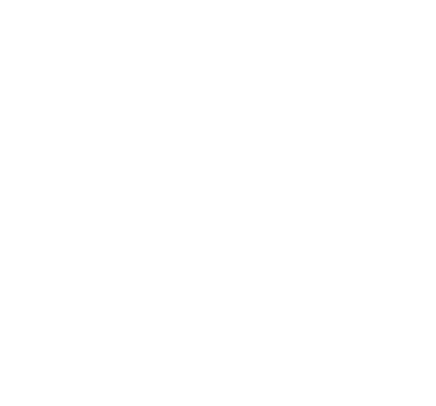 Цитата на стене мастерской: Винсент Ван Гог«Картина начинается там, где есть линии — упругие и волевые,
Цитата на стене мастерской: Винсент Ван Гог«Картина начинается там, где есть линии — упругие и волевые,
даже если они утрированы»
-
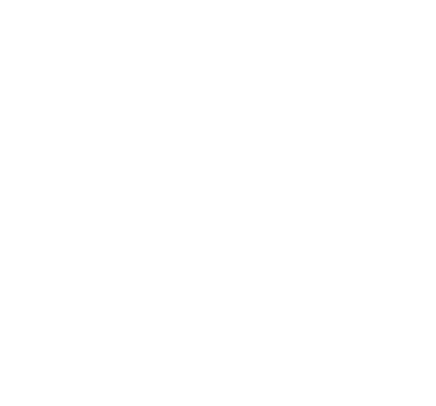 Цитата на стене мастерской: Пабло Пикассо«Живопись не проза, она поэзия — она пишется стихами с пластическими рифмами… Пластические рифмы — это формы, созвучные друг другу и согласованные с другими формами или с пространством, их окружающим…»
Цитата на стене мастерской: Пабло Пикассо«Живопись не проза, она поэзия — она пишется стихами с пластическими рифмами… Пластические рифмы — это формы, созвучные друг другу и согласованные с другими формами или с пространством, их окружающим…»
Б. Конюшенная, 15
сделаны художником эрмитажной школы Вадимом Филимоновым
зимой 1994 года после смерти В. Кагарлицкого
Объектив «Гелиос» Ф-30 мм на «широкую» пленку
(негативы 60*60 мм)
В мастерской Кагарлицкого проходили
импровизированные поэтические чтения, столь любимые художниками «эрмитажниками». Завсегдатаем
мастерской был поэт ленинградского андеграунда
Илья Кирзнер
Из воспоминаний художника эрмитажной школы Вадима Филимонова:
«Кирзнер, читай стихи! — громко просила мужская компания под сводчатым потолком полуподвала, надутым белым каменным парусом. Для чтения стихов всё было готово, горючее и скудная закуска закуплены. На столе, правда, красовалась всего одна поллитровка, не возбуждать же жажду преждевременно. О закуске не вспоминаю, не есть собрались, а стихи слушать. Хлеб был всегда, и было чем занюхать стопарик едкой водки. Все хлопнули по первой стопке — хорошо пошла! — закурили ядовитый «Беломор», «Приму», притихли, Кирзнер начал читать свои стихи. Его голос, довольно низкий, неторопливый, без подвываний нобелевского лауреата. От такого голоса девицы млеют, туманятся, физиология теснит эстетику. Но девиц не было, общество мужское.
Снова я приехал в Петербург из закордонья, когда уж и Илья Кирзнер, и Володя Кагарлицкий умерли — в 1993 году — один за другим. Теперь я фотографировал осиротевшую мастерскую, а вдова Володи Татьяна держала в руке 1000-ваттную лампу. Великолепные своды полуподвала на Большой Конюшенной круглились еще круглее под «рыбьим глазом» объектива «Гелиос» Ф-30 мм. Обзор 180 градусов — такой и водки-то нет на свете! Пленка «широкая», негативы 6*6 см. И сегодня с этих фотографий смотрят холсты Кагора...»
- 1988«Поэт» (Юрий Гусев). Холст, масло; 63*50 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1989«Поэт». Картон, масло; 52*50 см; Санкт-Петербург, Музей истории Санкт-Петербурга / Музей А. А. Блока. Композиция «Поэт», купленная в 1991 году Музеем Блока, замышлялась В. Кагарлицким как очередной портрет Кирзнера. Как шутил художник: «Илья похож на всех великих поэтов сразу»
- 1992«Читай, Илья, стихи». Холст, масло; 100*75 см; Санкт-Петербург, частное собрание. Слева направо сидят у стола: Борис Головачев, Юрий Гусев, Илья Кирзнер, Владимир Кагарлицкий. У левого края холста (сверху) — поэт и филолог Алексей Щеглов
- май 1993«Илья Кирзнер». Холст, масло; 50*40 см; Санкт-Петербург, частное собрание. Портрет написан В. Кагарлицким в мае 1993 года, через месяц после смерти друга. До смерти самого художника оставалось чуть больше месяца
- 1993«Беседа». Холст, масло; 80*60 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1989–1993«Мастер с учениками». Холст, масло; 100*65 см; Санкт-Петербург, частное собрание. Посвящен памяти Г. Я. Длугача. Слева направо стоят вокруг Учителя: Гусев, Головачев, Кагарлицкий. Этот холст остался на рабочем мольберте, когда 10 июля 1993 года художник покинул мастерскую навсегда
Деревянного моста
Вымолвить хочу я слово,
Да не разомкнуть уста.
Что-то есть еще в бутылке.
Друг мой Кирзнер, где ты, где?
Лишь, змеясь, бегут ухмылки
Белой ночи по воде.
Да вода ли эти дали?
Может — Лета, может — сон?
Дым буксира мы видали,
Но давно растаял он…
1982
и в авторских композициях
США, частное собрание
Первая программная работа Кагарлицкого «Зелёный Холст» в американском каталоге 1994 года репродуцирована под названием «Twilight» / «Сумерки». Центральный узел композиции построен вокруг раскидистого дерева, за которым темнеют очертания деревенской избы. У подножия ствола угадывается силуэт лежащей лошади. Обыденная предметность деревенского пейзажа лишь намечена, как отправная точка перехода на уровень онтологической мистерии. Мощные композиционные ритмы пронизывают изобразительный формат, закольцовывая в единый водоворот ветви и ветер, проблески света в облаках и мерцающий огонёк в маленьком окне, некошеные усталые травы и дальние стремительные горизонты. Динамика поддержана цветом — зелёный ускользает, движется через все оттенки энергично-синих, пепельно-серых, напряженно-фиолетовых. Видимая глазу симфония зелёного вызвана к жизни оптическим путем, благодаря филигранному вкраплению контрастных охристых и красно-коричневых контуров. Пространство небесного свода решено художником как метафора времени: в левой части небосклона доминируют глухие, дымные тона ночи, а в правой, над обессиленной лошадью, уже встает рассвет, бирюзовый от утренних звезд. Метафора вечного круговорота Дня и Ночи, Тьмы и Света — цитата из Рубенса, отсылающая зрителя к эрмитажной картине «Возчики камней».
США, частное собрание
Важнейший из программных — холст «Школьники». В американском каталоге 1994 года работа репродуцирована под названием «Before the Camera» / «У фотографа». В основе композиции — реальная групповая школьная фотография 1947 года: первоклассник Володя крайний справа в верхнем ряду. А во втором ряду снизу, вторым справа — Герман Филиппов, будущий филолог и искусствовед. Художник эрмитажной школы Борис Головачёв, близкий друг детства и соученик Кагарлицкого по ленинградской школе №210, пишет об этом произведении: «Абсолютно новая линия в творчестве Кагарлицкого, к сожалению, не продолженная по причине раннего ухода… Поразительная мера изобразительности найдена в холсте. Это тончайшая грань между условностью, деформацией, дрейфующей в сторону гротеска, и в то же время портретностью... Усилие, необходимое для подобного путешествия во времени, трудность прорастания изображения обусловили и необычный изобразительный язык».
И для искусства важен лишь вопрос «как?»
Теперь же мне ясно, что от прошлого избавиться невозможно, и вопрос «что?»
не менее важен. Ответ на этот вопрос определяется всякий раз всей
прожитой жизнью
- 1972«Интерьер зала в Эрмитаже». Холст, масло; 36*20 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1983«Река Мойка». Холст, масло; 54*75 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- нач. 1980-х«Натюрморт для Клары». Холст, масло; 70*60 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1983–1987«Женщина в кресле». Холст, масло; 88*65 см; США, частное собрание
- 1985–1988«Художник и модель». Холст, масло; 80*60 см; Израиль, частное собрание
- 1992«Авраам ведёт Исаака на заклание». Холст, масло; 50*40 см; Санкт-Петербург, частное собрание
Древний тот Месопотамский шлях.
Что мне в нем, давно забытом, что мне
Голова верблюда в облаках?
Но под вечер, стоя надо Мстою,
В окруженьи елок и осин,
Что-то дикое я тихо вою,
Как в пути взгрустнувший бедуин.
Сердца слов осталось так немного,
Губы стали жесткими как жесть.
Как же мне у смертного порога
Ими имя Бога произнесть?
Праотцы, вы в давней вашей дали,
Гефсиманскую топча траву,
Мне мою судьбу наколдовали
Летний сад, Фонтанку и Неву.
Но чревато небо над Невою,
И опять клубится в облаках
Над моей седою головою
Древний тот, неведомый мне шлях.
1990
- 2011: Владимир Кагарлицкий «За пределы формата». Стихи и заметкиСборник автобиографических заметок, дневниковых записей и стихов Владимира Кагарлицкого в авторской подборке. Малотиражное издание, цифровая печать
- 2019: «Владимир Кагарлицкий. Живопись и графика» [RU; EN]Альбом к 80-летию художника на русском и английском языках. Автор статьи о творчестве художника Владимира Кагарлицкого — Борис Головачев
- 2022: «От дома до Невы». Поэт Илья Кирзнер, фотограф Вадим ФилимоновСборник стихотворений ленинградского / петербургского поэта Ильи Иосифовича Кирзнера (1937–1993). Издание дополнено ч/б фотографиями Петербурга начала 1990-х
Новгородская область, Любытинский район, деревня Максимково — малонаселённая, почти заброшенная, расположенная на крутом косогоре над рекой Мстой — стала местом силы
и вдохновения для художника
Друзья-художники: Кагарлицкий, Гусев и Головачев впервые оказались в Максимково в начале 1960-х, со временем купили старую избу. Каждое лето приезжали на этюды. С середины 1970-х деревня стала вымирать, местных почти не осталось, а приезжающих на лето художников и их друзей, наоборот, становилось всё больше. Почти все участники группы Эрмитаж бывали в Максимково. Получился вариант Барбизона, на питерский лад.
Из воспоминаний художника Юрия Гусева:
«На высоком берегу Мсты — деревня Максимково. Когда-то был колхоз, совхоз. Жизнь била ключом: пахали, сеяли, косили. Люди жили-были — а потом разъезжались, покидали свои дома. Некоторые избы купили художники. К ним приезжали друзья, родные, дети.
Всем находилось место в Максимково, словно в раю, — среди природы и стихии, в закатах и рассветах, под знойным солнцем и томящейся луной. На этюдах у мольбертов дышали художники небом, облаком, цветущей землей. Рисовали, лепили из местной глины, сочиняли стихи, варились в чувствах и мыслях. Вечером собирались за столом у печки — как в сказке. В темном зеркале все умножалось: стол с подпиленной ножкой, горшки, чугунки, печь, окна, тканые коврики и букеты полевых цветов. Умножалось и тонуло, как во мстинском омуте. Давно это было...
11 июля 1993 года Володя умер от сердечного приступа на лесной тропинке, по дороге из города. Так совпало, что деревня после Володиной смерти стала приходить в упадок, избы разрушило время, иные сгорели по разным причинам. Больше там никто не живет, не рисует, не пишет. Захлопнулась дверца и будто стемнело. Нет больше рая. Эхо его осталось в наших сердцах и работах: река, цветущая яблоня, травы и птицы. Последние этюды Володи, сделанные на Мсте летом 1992 — весной 1993 года, характеризует распахнутость. Ни тесноты тебе, ни сжатости. В прямоугольник холста вошел мир и расширил формат. Формат кажется больше, чем на самом деле. Независим, свободен».
- 1986Петушки. Из серии «На Мсте». Холст, масло; 55*65 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1983Владимир Кагарлицкий в деревне Максимково. Фотография Владимира Штейнварга
- нач. 1990-хВид на «мстинские петушки» со стороны деревни Максимково. Фотография Ирины Ярошевич-Гусевой
Из веских непреложных слов,
Где корни порождают твердь и воздух,
А суффиксы — окраску облаков.
Просторно где, направо и налево
Приставками раздвинут окоем,
А посреди всего бормочет древо
О чем-то древнем или ни о чем.
Где по рукам и ребрам черных елок
Стекает вечер, и закат затих,
Ручей и тетерев ведут речитатив,
А средь ветвей застрял луны осколок.
Приснившаяся! Мне не по зубам
Трав прошлогодних тусклые соцветья.
И я с трудом глотаю междометья,
И взоры поднимаю к небесам.
1992
- 1971Река Мста, деревня Максимково. Холст, масло; 41*60 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- кон. 1970-хИзлучина. Из серии «На Мсте». Холст, масло; 35*56 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1980Стог. Из серии «На Мсте». Холст, масло; 35*47 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1980Петушки вечером. Из серии «На Мсте». Холст, масло; 55*66 см; Израиль, частное собрание
- 1983Петушки вечером. Из серии «На Мсте». Холст, масло; 48*54 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1985В деревне. Из серии «На Мсте». Холст, масло; 33*37 см; Санкт-Петербург, частное собрание
1985
Холст, масло; 20*40 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Холст, масло; 40*54 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Холст, масло; 63*74 см
США, частное собрание
Холст, масло; 40,5*55 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Холст, масло; 60*80 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Холст, масло; 60*80 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Холст, масло; 60*80 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Холст, масло; 60*80 см
Санкт-Петербург, частное собрание
Среди работ художника, которые не успели вывезти за границу в период выставочного бума начала 1990-х, в мастерской сохранилось некоторое количество автопортретов разных лет и портреты друзей и родных
-
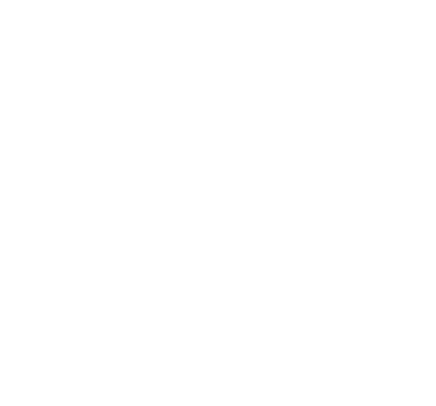 художник Юрий ГусевВолодя тонко видел соотношение вещей, положенных человеку от Бога, —
художник Юрий ГусевВолодя тонко видел соотношение вещей, положенных человеку от Бога, —
страстей, сил, ума, тупости, глупости — всего. И когда искал в портрете пластический и живописный эквивалент, всегда вызволял из человека
человеческое и любовался им -
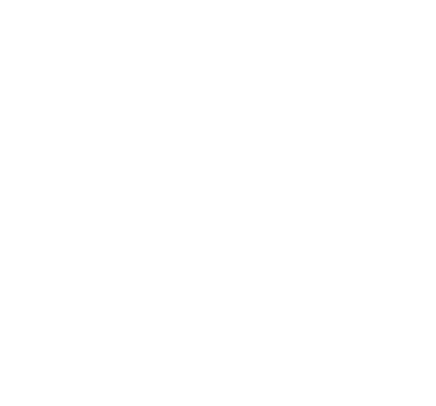 художник Борис ГоловачевВ портретах и в многочисленных автопортретах последних лет жизни ВК особенно сильно чувствуется яркий экзистенциальный характер изображения, достигаемый не за счет повествовательности, а за счет пластических средств, на первый взгляд привнесенных из эрмитажной практики, но на самом деле свидетельствующих о преодолении художником редукционизма раннего периода
художник Борис ГоловачевВ портретах и в многочисленных автопортретах последних лет жизни ВК особенно сильно чувствуется яркий экзистенциальный характер изображения, достигаемый не за счет повествовательности, а за счет пластических средств, на первый взгляд привнесенных из эрмитажной практики, но на самом деле свидетельствующих о преодолении художником редукционизма раннего периода
- 1979Саша. Холст, масло; 64*48 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1986Саша. Холст, акварель, темпера; 90*70 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1986Таня. Холст, масло; 40*27 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1985Учёный (портрет Германа Филиппова). Холст, масло; 53*43 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1985Маша. Холст, масло; 46*35 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1992Ира. Холст, масло; 55*35 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1992Игорь. Холст, масло; 51*40 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1988Алексей Щеглов. Холст, масло; 55*84 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1991Маша. Холст, масло; 85*60 см; Санкт-Петербург, частное собрание
По стерне лица хромала муха.
Еле различимое для слуха,
Что-то стрекотало за окном.
И встревали сипло всхлипы ветра.
Ночь и день менялися порой,
Но застрял в углу костяк мольберта,
Утверждая в комнате покой.
Пролетела муха глаза краем,
Край сознанья за окном пролег.
Бел до жути и необитаем
Тишиной подъятый потолок.
Гнут его могучие усилья,
Толстых стен окаменелый страх.
Шорох. Новорожденные крылья
Или крыса возится в холстах?
И опять все тихо. Тише смерти.
Лишь в висках стучит какой-то бред.
И на целомудренном мольберте
Возникает мой автопортрет.
1978
- нач. 1980-хАвтопортрет. Картон, тушь, темпера; ок. 50*37 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- сер. 1980-хАвтопортрет «Юре» (в подарок Юрию Гусеву). Холст, масло; 60*40 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1988Автопортрет. Холст, масло; 70*50 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1991Автопортрет с коровьим черепом. Холст, масло; 70*50 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1991Автопортрет. Холст, масло; 56*39 см; Санкт-Петербург, частное собрание
- 1991Автопортрет. Холст, масло; 40*35 см; Санкт-Петербург, частное собрание
«Эрмитажная школа Длугача» — художественное направление, возникшее в Ленинграде в середине 1950-х, сформировавшееся в 1960-х и достигшее расцвета
к середине 1980-х
Копирование картин старых мастеров — традиционный и неотъемлемый этап обучения в академической системе художественного образования. Метод аналитического копирования принципиально отличается как от традиционного академического копирования, так и от постмодернистской «игры» с классическим искусством.
Основная задача, которую Длугач ставил как перед собой, так и перед учениками, заключалась в выявлении с карандашом или кистью в руке скрытых от зрителя основных композиционных узлов — точек, линий и геометрических форм — безусловно узнаваемых по отношению к копируемой картине и воссоздающих в копии пластический образ из произведения мастера. Предметом исследования становились картины Веронезе, Тициана, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Хальса, Рейсдаля, Пуссена, Эль-Греко, Делакруа и др.
В процессе практических занятий Г. Я. Длугач ввел в обиход собственную терминологию, единую для «эрмитажников» всех поколений, что совершенно не мешало каждому ученику по-своему трактовать «термины Длугача». В основе некоторых разночтений — проблема «трудностей перевода» языка художественной практики на язык теории искусствознания.
Ученики Длугача полностью концентрировались именно на художественной практике — вырабатывали новый изобразительный язык. Им было не до согласования словаря терминов, тем более, что понятия, внедренные в их лексикон «Стариком», — лапидарно-образные и по-своему поэтичные — оставляли простор для раздумий, что являлось несомненным плюсом в период становления «эрмитажной школы». Но сегодня проблема очевидна: несовпадение словаря «внутреннего пользования» эрмитажников с лексикой академического искусствознания поистине взрывает мозг современных исследователей и читателей.
Обратимся же к записям участников эрмитажных исследований: в своих юношеских дневниках периода занятий со Стариком, а много позже — в мемуарах, научных статьях, книгах и монографиях — ученики все-таки зафиксировали основные постулаты аналитической эрмитажной школы Г. Я. Длугача.
-
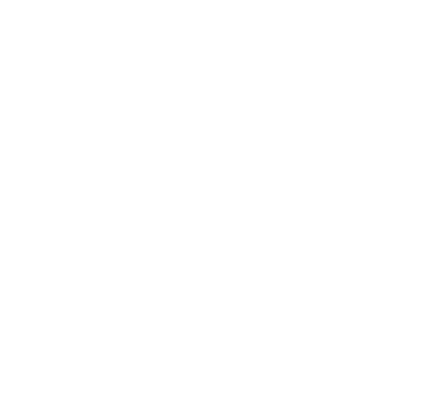 художник Борис ГоловачевОдно из ключевых понятий арсенала эрмитажного эксперимента — «пластическое пространство». Это способность изобразительной плоскости быть полем действия гравитационно-динамических сил, формирующих изображение
художник Борис ГоловачевОдно из ключевых понятий арсенала эрмитажного эксперимента — «пластическое пространство». Это способность изобразительной плоскости быть полем действия гравитационно-динамических сил, формирующих изображение -
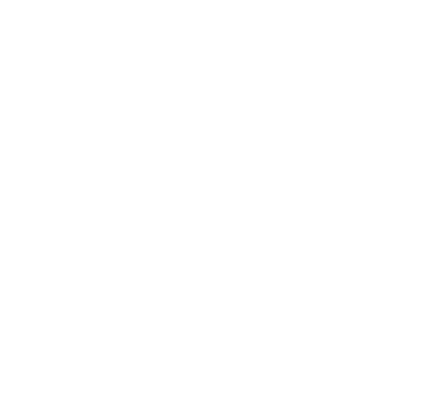 художник Владимир Кагарлицкий«Вам не обойтись без деформаций. Когда начнете видеть, то поймете, что у стариков (так он называл великих) все основано на деформациях и невидимых линиях», — говорил нам Длугач
художник Владимир Кагарлицкий«Вам не обойтись без деформаций. Когда начнете видеть, то поймете, что у стариков (так он называл великих) все основано на деформациях и невидимых линиях», — говорил нам Длугач -
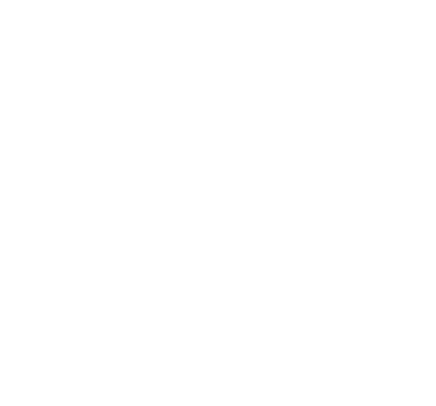 художник Юрий ГусевКогда в формате всё взаимосвязано и взаимодействует, когда всё взвешено по степени тяжести, по массе, по движению и влиянию, это и есть «замóк образа»
художник Юрий ГусевКогда в формате всё взаимосвязано и взаимодействует, когда всё взвешено по степени тяжести, по массе, по движению и влиянию, это и есть «замóк образа» -
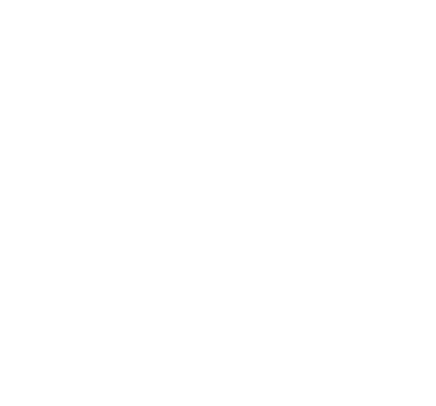 художник Альберт БакунПоиск внутренних пластических связей, вычленение пластического знака («иероглифа»), дающего образ — связь пластики с изображением
художник Альберт БакунПоиск внутренних пластических связей, вычленение пластического знака («иероглифа»), дающего образ — связь пластики с изображением -
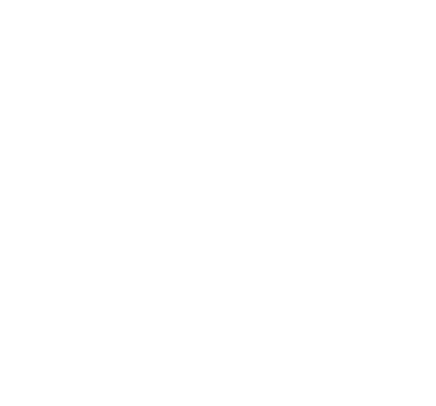 художник Владимир КагарлицкийЛиния в формате Мастера не просто обозначена, а живет — то есть движется. Способы заставить линию двигаться нащупываются интуитивно. Именно это и называют «языком художника». Пристальное исследование этого
художник Владимир КагарлицкийЛиния в формате Мастера не просто обозначена, а живет — то есть движется. Способы заставить линию двигаться нащупываются интуитивно. Именно это и называют «языком художника». Пристальное исследование этого
аспекта в работах мастеров поможет ученику найти собственные средства -
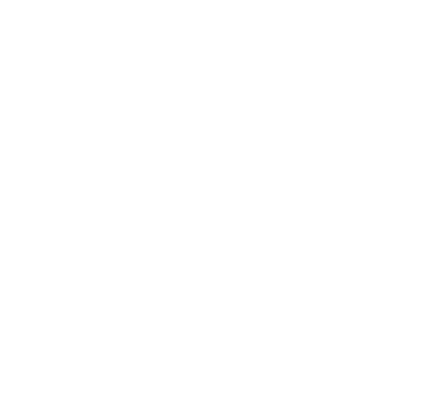 искусствовед Сергей ДаниэльНа языке Длугача сущность пластической формы выражалась словом, которое приобрело характер термина: «камень», что значит — «целое». Это свойство высшей пластической цельности он находил и учил видеть у Леонардо, Веронезе, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ван Дейка, Халса, Рейсдала
искусствовед Сергей ДаниэльНа языке Длугача сущность пластической формы выражалась словом, которое приобрело характер термина: «камень», что значит — «целое». Это свойство высшей пластической цельности он находил и учил видеть у Леонардо, Веронезе, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Пуссена, Ван Дейка, Халса, Рейсдала
-
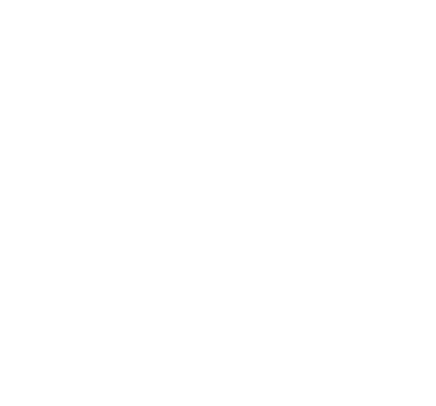 художник Борис ГоловачевИз мотивов, побудивших меня прийти в Эрмитаж, далеко не последним был мотив чисто практический — возможность научения. Однако, чем дальше, тем больше он вытеснялся мотивом изучения. И если кто-то возразит, что одно не существует без другого, то столь же правомерно утверждать, что одно другому не тождественно
художник Борис ГоловачевИз мотивов, побудивших меня прийти в Эрмитаж, далеко не последним был мотив чисто практический — возможность научения. Однако, чем дальше, тем больше он вытеснялся мотивом изучения. И если кто-то возразит, что одно не существует без другого, то столь же правомерно утверждать, что одно другому не тождественно -
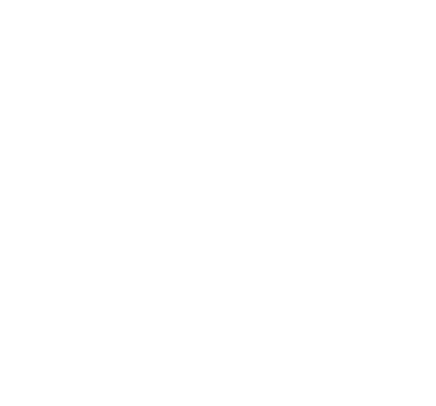 художник Александр ЗайцевЯ бы классифицировал проделанную за три десятилетия работу так: копии, аналитические копии, аналитические интерпретации, алгоритмические интерпретации, интерпретации-циклы — художественными трактовками дающие наиболее полное толкование произведения, взятого за основу
художник Александр ЗайцевЯ бы классифицировал проделанную за три десятилетия работу так: копии, аналитические копии, аналитические интерпретации, алгоритмические интерпретации, интерпретации-циклы — художественными трактовками дающие наиболее полное толкование произведения, взятого за основу
-
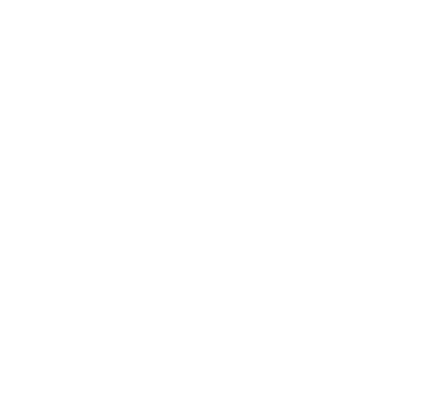 художник Владимир КагарлицкийКопируя работы старых мастеров, ученик обретает пластическое зрение,
художник Владимир КагарлицкийКопируя работы старых мастеров, ученик обретает пластическое зрение,
но не рискует стать маленьким подобием великого Учителя. Поскольку Учителя эти велики, как природа: не только не порабощают ученика, а напротив,
поддерживают и помогают найти себя -
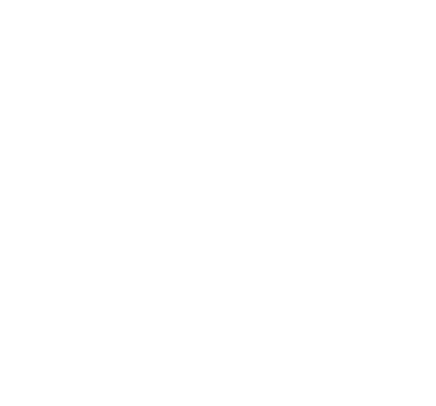 искусствовед Сергей ДаниэльЗа годы существования, c середины 60-х по начало 90-х гг. XX века, «эрмитажная школа» накопила богатый опыт аналитической интерпретации классики. Длительное существование «эрмитажной школы» при сохранении постоянного ядра участников позволяет рассматривать ее как уникальный художественно-познавательный эксперимент
искусствовед Сергей ДаниэльЗа годы существования, c середины 60-х по начало 90-х гг. XX века, «эрмитажная школа» накопила богатый опыт аналитической интерпретации классики. Длительное существование «эрмитажной школы» при сохранении постоянного ядра участников позволяет рассматривать ее как уникальный художественно-познавательный эксперимент
Альберта Бакуна:
Григорий Яковлевич Длугач
в залах Государственного Эрмитажа, сер. 1970-х
аналитической эрмитажной школы
«Эрмитажную школу Длугача» прошли несколько поколений ленинградских / петербургских живописцев,
в дальнейшем именующих себя «эрмитажниками»
Первое поколение «эрмитажников»: Алексей Гавричков (1937–2003), Дмитрий Фридлянд (г.р. 1939), Леонид Амчиславский (1937–2024), Вацлав Дземяшкевич (г.р. 1938), Леонид Нейфах (1938–2020), Ирина Соколова (г.р. ок. 1937)
Представители первого поколения начали заниматься у Длугача в студии ДПШ в начале 1950-х. В дневниках А. Бакуна приводится рассказ Д. Фридлянда о том, что, обучая подростков-студийцев, Григорий Яковлевич не слишком-то углублялся в аналитические изыскания. Тем не менее, юные студийцы дали учителю прозвище «Диагональ», из чего можно заключить, что некоторые основы аналитических построений всё-таки упоминались. Позже, будучи учениками СХШ, бывшие студийцы во внеурочное время рисовали по заданию Длугача гипсы в Музее слепков при Академии художеств. Серьезное же обучение аналитическому копированию у Длугача они продолжили позже, уже в период студенчества (Академия художеств / ЛВХПУ им. Мухиной).
Второе поколение «эрмитажников»: Александр Зайцев (г.р. 1937), Ярослав Лаврентьев (г.р. 1939), Станислав Мосевич (г.р. 1937), Вадим Кочубеев* (1938–2024)
Ученики второго поколения пришли к Учителю в начале 1960-х, будучи студентами Академии художеств. До Академии они учились в СХШ, где и узнали о Длугаче от одноклассников. Между собой звали Григория Яковлевича «Грек». Именно с учениками второго поколения Длугач начал проводить регулярные занятия непосредственно в залах Эрмитажа. К концу 1960-х наметилась постепенная трансформация метода от аналитического копирования в сторону аналитической интерпретации. Особую роль в этом процессе сыграл А.П. Зайцев со своим альтернативным методом математического исследования картины.
* Вадим Кочубеев непродолжительно занимался у Длугача в начале 1960-х, затем, после большого перерыва — в конце 1970-х
Третье поколение «эрмитажников»: Альберт Бакун (г.р. 1946), Борис Головачев (г.р. 1939), Юрий Гусев (1939–2018), Владимир Кагарлицкий (1939–1993), Сергей Даниэль (г.р. 1949), Александр Даниэль (г.р. 1947), Марк Тумин (1946–2013), Геннадий Матюхин (1937–2012), Вадим Филимонов (г.р. 1947)
Ученики третьего поколения пришли к Учителю в конце 1960-х. В большинстве своем они учились в «Тавриде» (ЛХУ им. Серова), где в это время начали преподавать выпускники Академии художеств А.П. Зайцев и С.П. Мосевич (знаменитые представители второго поколения). Для В. Кагарлицкого, Ю. Гусева и Г. Матюхина художественное образование стало вторым, в дополнение к уже полученному высшему, поэтому они оказались ровесниками своих преподавателей и были значительно старше соучеников, поступивших в художественное училище после средней школы (А. Бакун, С. Даниэль, М. Тумин, В. Филимонов). Б. Головачев тоже сначала получил высшее образование (филологическое ) и только потом поступил в ЛВХПУ им. Мухиной. В этом поколении за Григорием Яковлевичем закрепилось прозвище «Старик».
Внутри третьего поколения «эрмитажников» в начале 1970-х сложилось неформальное художественное объединение, позже получившее известность как группа «Эрмитаж». Название группы появилось откуда-то извне, примерно к 1979 году, и закрепившись навсегда за неформальным художественным объединением, внесло досадную неразбериху — широкий круг эрмитажной школы Длугача стали путать с составной частью, сегментом этого круга — группой «Эрмитаж». На многих интернет-ресурсах и даже в авторитетных искусствоведческих изданиях можно встретить нарастающее цитирование этой путаницы.
Целью объединения была совместная выставочная деятельность. Но, если не считать «квартирную» выставку 1974 года, устроенную в комнате коммунальной квартиры Вадима Филимонова (который, кстати, в группу «Эрмитаж» не входил), художники неформальной группы «Эрмитаж» в период «эпохи застоя» оказались лишены возможности демонстрировать свои работы на официальных ленинградских выставках. Основным способом передачи художественного опыта стала педагогическая практика: все члены этого объединения преподавали в разных художественных заведениях. Выставки группы стали вновь возможны только во второй половине 1980-х. C 1988 года группа «Эрмитаж» регулярно участвовала в выставочной жизни Ленинграда, а с начала 1990-х начались выставки за рубежом (Германия, Израиль, США). Состав группы «Эрмитаж»: Альберт Бакун, Борис Головачев, Юрий Гусев, Владимир Кагарлицкий, Марк Тумин, Сергей Даниэль, Александр Даниэль (с начала 1980-х), Владимир Обатнин (у Длугача не занимался, включён в группу в качестве переводчика в начале 1990-х, перед поездкой в США).
Четвёртое поколение «эрмитажников»: Полина Кочубеева (г.р. 1948), Елена Хисамутдинова (Крылова) (1951–2021) и Ирина Перова (Етоева) (г.р. 1953); Наталья Сапрыкина (г.р. 1943), Рашид Алмаметов (1957–2008), Вера Соколова-Зайцева (г.р. 1959), Владимир Крайнов (г.р. 1960), Александр Рохлин (1954–2024)), Борис Ефремов (г.р. 1955)
Четвёртое поколение было последним, замыкающим историю занятий в Эрмитаже под руководством Г.Я. Длугача. С 1977 года пришли копировать Полина Кочубеева, Елена Хисамутдинова (Крылова) и Ирина Перова (Етоева). К началу 1980-х здоровье Григория Яковлевича ухудшилось, и регулярные занятия в залах Эрмитажа постепенно сошли на нет.
С 1986 года у Григория Яковлевича резко обострилась болезнь глаз, поэтому занятия носили скорее эпизодический характер, но всё-таки продолжались: А.П. Зайцев привел
к Г.Я. Длугачу своих учеников из студии Юсуповского дворца — Наталью Сапрыкину, Рашида Алмаметова, Веру Соколову, Владимира Крайнова, Александра Рохлина.
В.К. Кагарлицкий рекомендовал Г.Я. Длугачу Бориса Ефремова. Занятия оборвала смерть Учителя в феврале 1988 года.
Развитие эрмитажной школы продолжилось силами учеников, и в начале 1990-х образовались несколько достаточно независимых направлений
В 1991 году был учрежден Колледж Изобразительной Композиции (КИК), где преподавали Б.Ф. Головачев, М.Х. Тумин, А.М. Даниэль и В.Н. Обатнин. После смерти В.К. Кагарлицкого, в 1994 году, его ближайшие ученики образовали группу «Четыре стихии»: Владислав Наумчик (г.р. 1961), Андрей Симонов (1961–2021), Андрей Филиппов (1958–2004), Дорин Павел (1962–2024). Аналитические копии эрмитажных полотен, выполненные В. Наумчиком и А. Симоновым, участвовали в экспозиции выставки «Неклассическая классика» (1998 год, Государственный Эрмитаж). Отдельную независимую ветвь эрмитажной школы развил А.П. Зайцев на основе собственного метода математического исследования картин. А.А. Бакун продолжает копировать в залах Эрмитажа по сей день, подтверждая свою теорию геометрического модуля, направляет молодых художников, которые ищут себя в русле аналитического копирования.
Картины Г.Я. Длугача и художников всех поколений эрмитажной школы экспонировались в эрмитажных залах в рамках выставки «Неклассическая классика» (СПб, ГЭ, 1998). Сейчас работы художников эрмитажной школы находятся в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Музея нонконформистского искусства, Государственного музея «Царскосельская коллекция», Музея современного искусства «Эрарта», во многих отечественных региональных музеях. Художники эрмитажной школы представлены и в крупных зарубежных музейных коллекциях.
художников эрмитажной школы Длугача
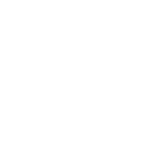
Фильм Ю. Дворкина «Радость Сизифа»
о художниках группы «Эрмитаж»
(1991)
Любые тексты / изображения с этого сайта могут использоваться исключительно в формате цитирования / со ссылкой на сайт
© Мария Кагарлицкая, контент и дизайн сайта [ на базе Tilda ], 2025
Оцифровка живописных и графических работ Владимира Кагарлицкого:
© Александра Древаль, 2011 — фотосъемка живописных и графических работ В. Кагарлицкого из частных собраний Санкт-Петербурга;
© Вячеслав Королев, 2019 — фотосъемка графических работ В. Кагарлицкого из собрания Музея «Царскосельская Коллекция», г. Пушкин;
© Ирина Регентова, Сергей Покровский, 2018 — фотосъемка живописных и графических работ В. Кагарлицкого из собрания Отдела Современного искусства Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург;
© Giclee Printing Services NY, LI / Curator Irina Abramzon, 2019 — сканирование живописных и графических работ В. Кагарлицкого в США
© RCP Scanning, Portland, Michigan / Curator Anna Abramzon, 2019 — сканирование живописных и графических работ В. Кагарлицкого в США
Help preserve the legacy of the artist Vladimir Kagarlitsky
The family of Vladimir Kagarlitsky is working to restore and celebrate his artistic legacy.
Many of his works, sold or gifted in the 1980s and 1990s without documentation, are now in private collections around the world — particularly in the U.S., Germany and Israel.
We are building a digital archive to honor his work and make it accessible to future generations. If you own a piece by Vladimir Kagarlitsky or know of one, we would be deeply grateful for your collaboration. All documentation costs will be covered by the artist’s heirs.
To share a digital image or connect with us, please contact [ VKLegacy@outlook.come ].
Your support will help keep his art alive — for those who knew him,
and for those just discovering his work.
